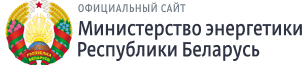Незаживающая рана

События, произошедшие на Чернобыльской АЭС в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г., навсегда вошли не только в историю мировой энергетики, науки, экологии, экономики и даже искусства, но и в судьбы тысяч людей, так или иначе затронутых крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества. Чернобыль стал страшным символом человеческих ошибок, пугающим фактом национальной истории, память о котором со временем не стирается…
«Это тревожное время занимает особое место в моей памяти, – вспоминает ведущий специалист по защите государственных секретов РУП «Гродноэнерго» Сергей Квасков. – В 1986 г. я служил офицером в Вооруженных Силах СССР. Исполняя приказ, мне довелось принимать участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. С августа по октябрь 1986 г. я служил в качестве заместителя командира войсковой части, которая была сформирована по штату военного времени на базе Белорусского военного округа».
Тихие пейзажи катастрофы
«В то тревожное лето воины-дорожники, среди которых был и я, занимались ликвидацией последствий катастрофы, – рассказывает Сергей Федорович. – Как сейчас помню пейзажи деревни Бартоломеевка Ветковского района Гомельская области…
Тяжелый, до зеркального блеска отполированный нож бульдозера грузно врезался в зараженный радиацией грунт. Вокруг – аккуратные грядки с налитыми пупырчатыми огурцами, роскошные клумбы с гладиолусами и гвоздиками… Все это смешивалось в один грязный ком, который медленно, с натугой полз вперед. За бульдозером оставалась желтая песчаная полоса с черными разводами, перечеркнутая двумя гусеничными следами.
Через несколько часов двор деревенской школы представлял собой уже ровную площадку, словно подготовленную для строительства. Зараженный грунт вывозили на «могильники». Усталый, запыленный бульдозерист с респиратором на вспотевшем лице спрыгнул на землю и удивленным, каким-то виноватым взглядом осмотрелся вокруг. Он будто извинялся, явно не хотел переворачивать здесь все вверх дном …»
Найти невидимого врага
«Радиацию нельзя заметить или ощутить, она не имеет запаха и не издает звука, – продолжает Сергей Квасков. – Это невидимый и безмолвный, но беспощадный враг, с которым нам предстояло воевать, чтобы выжить.
Но прежде всего радиацию нужно было обнаружить. Этим ежедневно занималась входящая в штат нашей войсковой части рота химической разведки, которая на протяжении трех месяцев производила разведку и измерение уровня радиации на территории Гомельской области. Именно эти разведданные легли в основу карт зараженной местности и повлияли на решения по отселению или экстренной эвакуации людей из наиболее загрязненных радионуклидами территорий.
Снятие, транспортировка и захоронение зараженного грунта, строительство и ремонт дорог – вот круг задач, которые приходилось решать дорожникам в те напряженные дни. Сложным, необычным и неизвестным тогда было все вокруг. И люди, и техника работали на пределе возможностей. Призванные из запаса гражданские специалисты, трудившиеся бок о бок с военными, однажды подсчитали: трактористы, бульдозеристы, грейристы и скреписты выполняли в день по пять-шесть «мирных» норм.
Помню, как один из них даже пошутил: мол, работал бы так на гражданке, в нормальной обстановке, бригадир бы наряды не закрыл – ни за что не поверил бы, что такой объем сделан за смену».
Рука не поднималась
«Дороги, школы – не только ими мы занимались, – поясняет Сергей Федорович. – Были, говоря сухим официальным языком, и другие объекты, подлежащие обработке и дезактивации. Среди них – детские сады и ясли. Один из них я помню в подробностях.
…У самого заборчика, затейливого сплетенного из тонких металлических прутьев и выкрашенного веселой розовой краской, бульдозер, словно наткнувшись на невидимую преграду, остановился. За заборчиком виднелись яркие, свежевыкрашенные под мухомор деревянные грибочки, песочницы, горки. Настоящее детское царство – колхоз постарался, не пожалел средств.
Пустить все это под безжалостный нож бульдозера рука не поднималась.
Подполковник тогда задумался, изучил данные дозиметрического контроля и решил: обойдемся без бульдозера, будем работать вручную, лопатами, однако срок завершения работы останется прежним.
Убрав вручную зараженный грунт, всю детсадовскую «матбазу» бойцы оставили в целости и сохранности. Приборы показали: радиация отступила. Думаю, перед сном в тот день каждый видел, как через некоторое время зазвенит там веселый детский смех, и никто не подумает, что грибочки, горки и песочницы обмыты не только специальным раствором и водой, но и солдатским потом».
Индивидуальная доза
«Естественно, при выполнении задач воздействию радиации подвергся и личный состав войсковой части, – отмечает Сергей Квасков. – Каждый военнослужащий имел персональный кодированный измеритель-накопитель радиации, который после окончания командировки был отправлен в штаб Белорусского военного округа для внесения показателей в карточку персонального учета доз облучений личного состава. Моя индивидуальная доза облучения, например, составила за три месяца 6100 рад…
В результате аварии на ЧАЭС Беларуси был нанесен значительный урон: 70% радиоактивных веществ выпало на территорию нашей республики, большая их часть – именно на Гомельщину. Экономисты Академии наук потом подсчитали, что ущерб, нанесенный этой катастрофой, составил 235 млрд долларов США. Это эквивалентно 32 годовым бюджетам нашей страны в ценах 1990 г. Только представьте, с какими объемами задач столкнулись тогда ликвидаторы!
Были дни и даже недели, когда спать приходилось, как на фронте, урывками. Видя осунувшиеся, заострившиеся лица своих подчиненных, я невольно сравнивал их с теми, кто в годы войны сначала защищал, а потом и освобождал эту землю. Думаю, они так же относились к своему нелегкому ремеслу, и лица у них были такие же усталые, но решительные».
Враг жив, он здесь
«Сегодня деревни Бартоломеевка нет. Жителей отселили в безопасные районы, школа разрушена, все заросло кустарником. Стрелка дозиметра и там, и в сотнях других мест, где раньше обитали люди, настойчиво предупреждает: враг жив, он здесь… Значит ли это, что наш труд тогда был напрасен? – задает риторический вопрос Сергей Квасков. – Думаю, мнения разойдутся.
Но помнить о тех событиях нужно. Помнить, как добиралась дорожная техника в самые непроходимые места, оставляя после себя добротные дороги. Не было в этой изнуряющей работе второстепенных задач. Самоотверженно трудились мы и тогда, когда обрабатывали солидную «десятилетку», рассчитанную на несколько сотен учеников, и в тот день, когда приводили в порядок крохотную, на 14 человек, начальную школу.
…Ежегодно 26 апреля мы отдаем дань памяти тем, кто работал на ЧАЭС, и тем, кто участвовал в ликвидации последствий этой катастрофы. Ее масштабы могли стать неизмеримо большими, если бы не мужество и самоотверженность ликвидаторов – тысяч наших соотечественников, людей, которые рисковали жизнями, чтобы устранить последствия крупнейшей человеческой ошибки».
По материалу газеты «Энергетика Беларуси»